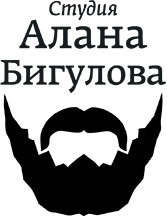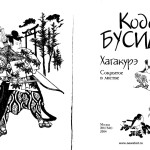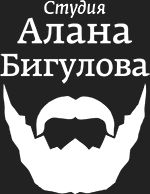Есть известная притча Иисуса о работниках и виноградаре:
Мф. XX, 1-16: 1 Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой 2 и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой; 3 выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, 4 и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. 5 Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. 6 Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? 7 Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите. 8 Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. 9 И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. 10 Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию; 11 и, получив, стали роптать на хозяина дома 12 и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. 13 Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? 14 возьми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе; 15 разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого, что я добр? 16 Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных.
В ней показывается, что ценности духа не подлежат бухгалтерскому учету. Есть множество толкований этой притчи. Что, впрочем, не мешает поразмышлять и самому.
Эта притча затрагивать вопросы соотношения добра и справедливости. В суде, нашем обычном земном суде, мы ожидаем, что судья будет скорее справедлив, а не добр. Но в жизни от людей, и уж тем более от Бога, мы ждем и надеемся на доброту. Ибо так как мы полны недостатков и за нами тянется длинный хвост нелецеприятных (в лучшем случае) проступков, то вырваться из замкнутого круга «преступления и наказания», можно только проявление к нам милости.
Да и в человеческом обиходе злопамятность не является добродетелью. Но как же тогда быть — получается что Высшее Существо поступает не справедливо? Этого как раз и не могли понять возмущенные первые работники.
Все дело в том, что только на человеческом уровне, в установленных людьми законах и правилах может быть противоречие между справедливым решением и добрым. Но в космических законах такого противоречия нет. Речь не идет о слепых законах эволюции — они вообще лежат вне плоскости добра и зла. Речь идет о законах духовного мира. Сердцем мы чуем, что Иисус не просто добр, но и справедлив, и награждая последних, как первых, он не нарушает закона, но исполняет его, как и Сам говорил.
Но есть и другой аспект этих понятий. Есть понятие добра и понятие доброты. Последняя часто принимает формы социальной уступчивости, угодливости, формой такта и принятого этикета поведения. Ее еще называют «румяная добродетель». То есть это то, что мы вкладываем в понятие «быть добреньким». И в этом смысле Иисус совсем не являет примера добродушного обывателя. Наоборот, как раз решительно возмущает воды застоявшегося болота религиозного чувства своих современников, и даже палкой изгоняет торгашей и менял из храма.
И мы всегда можем почувствовать, где такая обывательская доброта является суррогатом справедливости. Быть всем милым, уступчивым, покладистым добряком может быть худшим выбором, чем быть порой справедливым разбойником или блудницей.
Как же различить «быть добрым» и «быть добреньким»?
Владимир Тарасов вывел такое жизненное правило: «Делать не человеку лучше, а человека лучше». Если им руководствоваться, то, на мой взгляд, можно быть одновременно и добрым и справедливым. Ведь и обычная мать, любя всем сердцем свое дитя, не потакает его глупости, но может быть вполне строга и сурова.
Также следует поступать и по отношению к самому себе. И даже более того: отношение к своим важным делам, наполненным сокровенным смыслом, также не терпят прагматичности и расчетливости, а если мы все-таки допускаем так поступать, уступая обстоятельствам и людям, то рано или поздно это оборачивается большой драмой, если не жизненной трагедией. И может так оказаться, что вполне верное по расчету занятие уйдет бесследно и внезапно из жизни, а совершенно незатейливое и кажущееся малоперспективным, но важное нам дело, станет нашим стержнем и опорой, в том числе и в материальном аспекте. Так, последнее, о чем мы бы подумали заниматься, может оказаться первым, а первое — ничтожным и пустым.
Вот на такие размышления навела на меня эта притча.